| В.Э. Моциэнок Воронежский университет |
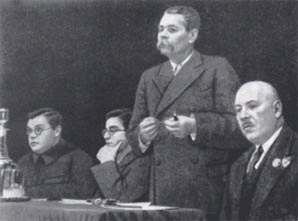
(1) Становление и развитие советской литературы следует расценивать как сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, богатая литературная культура России даже в условиях революционных потрясений, гражданской войны сумела выстоять, сохраниться как важнейший элемент духовной жизни страны. Безусловно, отряд литераторов поредел, многие из них покинули вздыбившуюся в революционном экстазе Россию. Другие остались, сплотившись в различные литературные объединения. Проявился талант целого ряда молодых писателей и поэтов. В 20-е годы прошлого столетия появились произведения, ставшие классикой отечественной литературы новейшего времени.
(2) С другой стороны, новая власть и ее идеология подходили к литературе с утилитарных классовых позиций, с точки зрения целесообразности времени. 1 Для них основополагающими в литературной политике оставались идеи ленинской статьи "Партийная организация и партийная литература", написанной еще в 1905 г. и вызвавшей негативную реакцию в литературных кругах страны. 2 Вскоре после Октябрьской революции были предприняты попытки обособить пролетарских писателей и поэтов в единых творческих организациях, появился термин писатель-попутчик. Значительный ущерб литературе принесла деятельность Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), присвоившей себе право поучать других литераторов, как и что писать, говорить от имени большевистской партии. По мере утверждения в СССР тоталитаризма в литературе не нашлось места инакомыслию, многообразию творческих методов, деятельности различных писательских и поэтических групп. В такой обстановке и был взят курс на подготовку и проведение всесоюзного съезда писателей, нацеленного на организацию единого творческого союза литераторов, с помощью которого можно было руководить литературой, контролировать ее.
(3) В советской литературе вплоть до конца 80-х годов ХХ в. I Всесоюзный съезд советских писателей оценивался исключительно положительно. Так, Ершов Л.Ф. считал, что этот съезд продемонстрировал идейное содружество художников слова. "Это была блестящая победа нашей партии (ВКП (б) - В.М.) в одной из сложнейших областей идеологии - в области литературы". 3
(4) Научные исследования, документальные публикации 90-х годов прошедшего века позволяют узнать много нового о подготовке и ходе работы писательского съезда 1934 г. Это прежде всего Стенографический отчет съезда и документальный сборник "Власть и художественная интеллигенция". 4 Указанные и другие публикации наглядно показывают руководящую роль большевистской партии в процессе объединения писательских сил, в определении задач и творческих методов советской литературы. ВКП(б) отказалась от нейтральной (по крайней мере на словах) позиции в отношении различных творческих писательских группировок и т.д. Широкой читательской аудитории стали известны скрывавшиеся ранее подробности работы писательского съезда, творческие позиции писателей, все более разраставшийся конформизм их и т.д.
(5) Важный шаг на пути создания ССП был сделан 23 апреля 1932 г., когда увидело свет Постановление ПБ ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций". Этим постановлением ликвидировались ассоциации пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП) и намечался курс на объединение всех писателей, поддерживавших платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем. Было принято также решение о разработке мер по проведению этого решения в жизнь. Вся подготовительная работа к съезду велась под бдительным контролем ПБ и ЦК ВКП(б).
(6) В начале мая этого же года группа поэтов (Н. Асеев, А. Безыменский, А. Жаров, В. Инбер, М. Светлов и др.) направили в секретариат ВКП(б) письмо, в котором приветствовали курс партии на создание союза писателей. Одновременно они высказали опасение, что в новом союзе поэты, как и раньше, не будут допущены к руководству им, что и в новом союзе рапповцы будут верховодить: "Отдельные группы и товарищи пытаются смазать решение ЦК, пытаются представить дело так, что ничего не произошло, что изменилось лишь название союза, а не содержание его работы…Мы просим принять все меры к ликвидации таких тенденций, обещая ЦК самую горячую, самую активную поддержку в направлении борьбы с враждебными течениями и влияниями на советскую литературу, в направлении борьбы с кружковщиной, литературщиной, групповщиной и т.д". 5
(7) 7 мая 1932 г. появилось Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) о мероприятиях по выполнению постановления ПБ ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций", утвердившее Оргкомитет Союза советских писателей по РСФСР в составе 24 человек. В него вошли: М. Горький (почетный председатель), И.М. Гронский (председатель союза и секретарь фракции ВКП(б) на съезде писателей), В.Я. Кирпотин (секретарь союза), А.А. Фадеев, Ф.И. Панферов, В.М. Киршон, А.С. Серафимович, А.И. Безыменский, В.В. Иванов, Л.Н. Сейфуллина, Л.М. Леонов и др. Аналогичные оргкомитеты создавались в национальных республиках. Все они объединялись в оргкомитет всесоюзной федерации советских писателей. 6
(8) На своем первом заседании Президиум Оргкомитета ССП обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой утвердить составы редколлегий ряда журналов: "На литературном посту", "Красная новь", "Октябрь", "Новый мир" и др. 7
(9) Однако "мир" в среде литераторов после указанного выше постановления не был установлен. Об этом говорят, например, письма А.А. Фадеева Л.М. Кагановичу и В.М. Киршона И.В. Сталину и Л.М. Кагановичу в мае 1932 г. Видные члены РАППА жаловались на то, что они оказались не у дел, их критикуют за деятельность этой организация. Фадеев был не согласен с утверждением, будто он 8 лет потратил на какую-то групповщину и кружковщину и что он должен всенародно расписаться в этом на посмешище всем врагам пролетарской революции. В свою очередь, Киршон считал, что отстранение рапповцев от работы в редколлегиях журналов не приведет к консолидации коммунистов в литературном союзе: "В обстановке кампании, которую ведут против нас наши литературные противники, кричащие, что РАПП ликвидирован за ошибки РАППовского руководства, полное отстранение нас от работы в редакциях литературных журналов не может не быть воспринято как нежелание нашего участия в проведении линии партии на литературном фронте… Тов. Сталин говорил о необходимости поставить нас в "равные условия". Но при таком положении могут получиться не "равные условия", а разгром". 8 И далее: "Работать в обстановке недоверия очень трудно и тяжело. Мы хотим давать большевистские произведения. Мы просим дать нам возможность вести работу на литературном фронте, исправить допущенные нами ошибки, перестроиться в новых условиях". Киршон просил оставить бывшим рапповцам журнал "На литературном посту". Партийное руководство учло просьбы рапповцев. В июне 1932 г. Секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление "О литературных журналах". Ряд их был объединен. В частности, журнал "На литературном посту" слился с журналом "За марксистско-ленинское искусствознание" и "Пролетарской литературой" в одно издание. Киршон, Фадеев и другие рапповцы вошли в редколлегии ряда журналов.
(10) Дата открытия съезда неоднократно переносилась. Первоначально он планировался на 1932 г., но ПБ ЦК ВКП(б) 27. 09.1932 г. отложило съезд до середины мая 1933 г. Однако и эта дата не была окончательной.
(11)
16 марта 1933 г. И. Гронский в докладной записке Сталину и Кагановичу отчитался о проделанной оргкомитетом съезда работе и внес ряд предложений, относящихся к предстоящему форуму писателей. Он считал, что переносить съезд с мая 1933 г на более поздний срок нет оснований и что уже сейчас (т.е. в марте 1933 г.) следует предпринять следующие шаги:
1. Утвердить порядок дня работы съезда и докладчиков.
2. Норму представительства на съезде.
Предлагался следующий порядок работы съезда:
1. Вступительное слово Горького о задачах ССП.
2. Политический доклад (от ЦК ВКП(б)).
3. Отчет оргкомитета ССП (докл. И. Гронский).
4. Задачи советской драматургии (предлагался в качестве докладчика А.И. Стецкий - зав. отделом культпросветработы ЦК ВКП(б)
5. Устав ССП (докл. Субоцкий).
6. Доклад мандатной комиссии.
7. Выборы правления союза и ревизионной комиссии.
(12) Норма представительства на съезд предлагалась такая: один делегат от 10 членов Союза. Таким образом, на съезд планировалось избрать 500-600 человек. Гронский предлагал заранее утвердить в ЦК ВКП(б) тезисы докладов и резолюций съезда. 9
(13) Через несколько дней последовало постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) "О всесоюзном съезде писателей", зафиксировавшее новую дату созыва съезда писателей - 20 июля 1933 г. в Москве и по существу утвердившее все предложения Гронского. Заменен был лишь докладчик по советской драматургии. Намечался доклад зав. сектором художественной литературы ЦК ВКП(б) В.Я. Кирпотина и содоклады драматургов В. Киршона, Н Погодина и А. Толстого.
(14) Однако по каким-то причинам съезд писателей в очередной раз был перенесен на 1934 г. Еще до съезда Политбюро приняло решение создать литературный фонд при писательском союзе, призванный улучшать культурно-бытовое обслуживание и материальное положение литераторов. Средства в фонд должны были поступать от издательской деятельности, театральных сборов, взносов членов Союза советских писателей. 10
(15) С весны 1934 г. секретно-политический отдел ГУГБ НКВД СССР организовал регулярное информирование руководства наркомата и ЦК партии о настроениях в писательской среде, ходе выборов делегатов на съезд и т.д. В частности, накануне его правительственные верхи были проинформированы о составе делегаций писателей от разных регионов страны с характеристикой многих литераторов. По сути это были небольшие досье на участников съезда, в которых имелись сведения об их партийном прошлом, участии в националистических движениях и т.д.
(16) Список делегатов включал 597 человек. Из них 377 человек имели решающий голос, 220-совещательный. Примечательно, что среди делегатов с решающим голосом 206 были членами ВКП(б) или кандидатами, 29 - членами ВЛКСМ и 142 - беспартийными. Средний возраст делегатов составлял около 36 лет, писательский стаж - около 13 лет. Таким образом, в работе съезда участвовали довольно молодые и профессиональные литераторы. 11 Организаторов съезда устраивал и социальный состав делегатов. Около 70% из них были выходцами из рабочей и крестьянской среды
(17) Разнообразным был жанровый состав участников писательского форума: прозаиков насчитывалось около 33%, поэтов - 19,2%, драматургов - 4,7%, литературных критиков - 12,7%, очеркистов - 2%, журналистов - 1,8%, детских писателей - 1,3% и т.д. 12
(18) На съезде были представлены писатели и поэты 52 национальностей страны, в том числе русские - 201 человек, евреи - 113 человек, грузины -28, украинцы - 25, армяне - 19, татары - 19, белорусы - 17, узбеки - 12, таджики - 10 и т.д. Самыми представительными были писательские делегации Москвы - 175 человек, Ленинграда - 45, Украины - 42, Белоруссии - 26, Грузии - 30, Армении - 18, Азербайджана - 17, Узбекистана - 16, Таджикистана - 14.
(19) В частности, от Центрально-Черноземной области в работе съезда приняли участие тамбовский писатель Завадовский Л.Н., писательница Кретова О.К., прозаик, переводчик Киреев М.М., прозаик, журналист Подобедов М.М., критик, литературовед Плоткин Л., редактор газеты "Коммуна" Швер А.В.
(20) Наконец, на съезде присутствовали 40 иностранных писателей, в том числе Луи Арагон, Мартин Андерсен Нексе, Жан-Ришар Блок, Вилли Бредель и др. Некоторые из них выступили в прениях. Таким образом, власть могла надеяться на предсказуемые, соответствующие тогдашней идеологии и политике решения писательского съезда.
(21) Первый Всесоюзный съезд писателей проходил с 17 августа по 1 сентября 1934 г. За это время прошли 26 заседаний, на которых были заслушаны и обсуждены доклады А.М. Горького о советской литературе, С.Я Маршака о детской литературе, К. Радека о современной мировой литературе и задачах пролетарского искусства, В.Я. Кирпотина, Н.Ф. Погодина, В.М. Киршона о советской драматургии, Н.И. Бухарина о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР, В.П. Ставского о литературной молодежи страны, К.Я. Горбунова о работе издательств с начинающими писателями, П.Ф. Юдина об уставе союза советских писателей. Было проанализировано состояние литературы в национальных республиках.
(22) Примечательным было начало съезда писателей. Его открыл А.М. Горький, человек, прославившийся в свое время как "буревестник революции", вставший в оппозицию советскому руководству в октябрьские дни 1917 г. Теперь же он выступал на съезде как апологет советской системы. Отсюда и такие пафосные слова в его речи: "Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. Мы - враги собственности, страшной и подлой богини буржуазного мира, враги зоологического индивидуализма, утверждаемого религией этой богини… Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина". 13 На наш взгляд, доклад А.М. Горького о советской литературе нельзя назвать аналитическим. По мнению В. Баранова, он являл собой сжатый очерк развития художественного сознания, начиная с устного народного творчества и кончая наиболее зрелыми формами обобщения, утвердившимися в мировой литературе. Включив немалый конкретный материал и продемонстрировав огромную эрудицию, докладчик ухитрился не назвать ни одной фамилии советских литераторов. В. Баранов ссылается на версию, согласно которой выступление Горького было лишь частью доклада, содержавшего конкретный разговор о писателях и произведениях. Но разговор этот не устроил советское руководство и поэтому не состоялся. 14 Эта версия имеет право на существование и тогда понятна безликость доклада Горького.
(23) Среди проблем, поднятых Горьким в своем докладе, значительное место было отведено задачам советской литературы. В частности, он подчеркнул, что она не может похвастаться умением творчески подходить к анализу жизни. Запас впечатлений, количество знаний литераторов не велик, и особенной заботы о расширении, углублении его не чувствуется. 15 В среде литераторов много мещанства. Основным героем советской литературы должен стать человек труда. Литераторы должны уделять больше внимания детям, советским женщинам, истории своей страны и т.д. Этот призыв получит развитие на съезде в приветствиях и наказах многочисленных делегаций от Красной Армии, колхозников и др. Из наказа делегации красноармейцев: "Мы ждем того, чтобы вы написали о Красной Армии, о ее бойцах, отразили самое главное - рядового бойца во всей его повседневной жизни"… "Если на границах каркнет черный ворон и взревут танки белых, мы возьмем в руки руль, и наши моторы с четвертой скоростью рванутся в бой".
(24) Говоря о союзе писателей, Горький подчеркнул, что он (союз) должен поставить задачу не только защищать профессиональные интересы литераторов, но и интересы литературы в целом. Союз должен в какой-то мере взять на себя руководство армией начинающих писателей, должен организовать ее, учить работать с литературным материалом и т.д. Отсюда понятен тезис Горького о том, что советская литература должна быть организована как единое коллективное целое, как мощное орудие социалистической культуры. Для Горького аксиоматичным было положение о партийном руководстве литературой. Таким образом, он выполнил функции рупора партийной политики в литературе. Однако это не спасло писателя от разносной критики в кулуарах съезда. По мнению М. Шагинян, его доклад был неверным, неправильным, отнюдь не марксистским и им все недовольны, даже иностранные делегаты. Шагинян предположила, что доклад Горького будет дезавуирован Сталиным. Однако это предположение не сбылось.
(25) Задал тон работы съезда писателей и секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов. В его выступлении наглядными были идеологические штампы: "СССР стал передовой индустриальной страной, страной самого крупного в мире социалистического земледелия. СССР стал страной, в которой пышным цветом развивается и растет наша советская культура. Для Жданова советская литература представлялась как самая идейная, самая передовая и самая революционная. 16 Современное же состояние буржуазной литературы таково, что она уже не может создать великих произведений из-за упадка и разложения капиталистического строя. Ей характерен разгул мистицизма, поповщины, увлечение порнографией. "Знатными людьми" буржуазной литературы являются сейчас воры, сыщики, проститутки, хулиганы. Совсем другое дело в СССР, здесь другие герои. Советская литература насыщена энтузиазмом и героикой. Она оптимистична. Жданов напомнил слова Сталина о писателях как инженерах человеческих душ. Они должны знать жизнь, чтобы уметь все правдиво изобразить в художественных произведениях, изобразить не схоластически, мертво, не просто как "объективную реальность", а изобразить действительность в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма. Это метод социалистического реализма. 17 Жданов полагал, что советская литература не боится обвинений в тенденциозности. Она тенденциозна, ибо нет и не может быть в эпоху классовой борьбы литературы не классовой, не тенденциозной, якобы аполитичной. Он провозглашал разрыв с романтизмом старого типа, который изображал несуществующую жизнь и несуществующих героев, уводя читателя от противоречий и гнета жизни в мир несбыточного, в мир утопий. Нам, дескать, нужен революционный романтизм. Заметим сразу, что высказанные Ждановым в адрес старого романтизма претензии, следует отнести в полной мере к советской литературе 30-х и последующих лет. Революционный романтизм превратился по существу в утопический. К сожалению, тезисы ждановского доклада превратились в целевые установки для отечественных литераторов. Из-под их пера будут выходить и тенденциозные и утопические произведения, далекие от правды жизни, но зато соответствующие партийным установкам.
(26) В докладе Жданова содержались и разумные идеи. В частности, он призывал писателей овладевать так называемой техникой литературного дела, собирать, изучать, критически осваивать литературное наследие прошлого, бороться за культуру языка, за высокое качество произведений. Имеющаяся же литература еще не отвечала требованиям эпохи. Однако все эти наставления и оценка советской литературы были элементарны, неконкретны и имели все тот же директивный характер.
(27) В прениях, развернувшихся на писательском съезде, приняли участие многие из известных тогда литераторов. В их выступлениях были развиты идеи, положения докладов Горького и Жданова. Ф. Гладков мог заявить, например, что успех их художественного творчества зависит в большой степени от того, высоко ли стоит писатель как культурная сила, насколько он глубоко усвоил теорию Маркса-Ленина-Сталина. К недостаткам советской литературы он отнес бессилие создать типическую фигуру человека, которая была бы ведущей, которая бы волновала, звала за собой, поднимала. Нет героев типа Базарова, Рудина, Челкаша, Ф. Гордеева и т.п. 18 Писатель критиковал неумение литераторов выдерживать сюжет своих произведений, что приводило к его распаду. Читатель начинал томиться над книгой, ее чтение становилось для него гнетущим, скучным занятием. Для него книга становилась "жвачкой". Гладков высоко ценил творчество Ф. Достоевского, умевшего уголовный запутанный сюжет наполнить глубоким содержанием, создать изумительные типы своего времени, подняться до философских высот. Гладкова, как и других писателей, волновала проблема языка художественных произведений, но его суждения были явно ошибочны, когда он язык советских рабочих считал более богатым, динамичным, культурным, по сравнению с дореволюционным временем. Он противоречил себе, признавая наличие в языке советской эпохи много всяческих наслоений, грязи, блата, ругани, старых изуродованных слов. 19
(28) В свою очередь, Л. Леонов выражал уверенность, что советские писатели будут участниками мировых конгрессов социалистической литературы. На повестке дня будут стоять не только вопросы, касающиеся нового человека, но и вопросы борьбы со стихиями, расширяющейся деятельности человека в космосе. Наш век - это утро новой эры. Художественная литература перестает быть только беллетристикой, она становится одним из самых важных орудий в деле ваяния нового человека.
(29) Эту мысль развил И. Эренбург: "Наш новый человек куда богаче, тоньше, сложнее, нежели его тень на страницах книг. Вместо теплой вибрирующей жизни, вместо органической биографии у нас то и дело получается декларация, снабженная карточкой ударника и десятком общеизвестных мыслей. …Сплошь и рядом мы видим людей только в цехах или в правлении колхоза. Леса стройки превращаются в ультра-театральные подмостки". 20 Вместо живых людей читатель видит порой манекенов. В показе совеременного человека многие писатели идут по пути наименьшего сопротивления. Мучительный процесс творчества они подменяют умелым лавированием. Они тщательно обходят темы, которые кажутся им трудными, отмахиваются от правдивого изображения запутанности психологии людей на переломе эпох. Эренбург остро поставил вопрос о литературной критике. Последняя, по его мнению, заносит писателей либо на красную, либо на черную доску, меняя при этом с легкостью положение литераторов. "Нельзя допускать, - утверждает Эренбург, - чтобы литературный разбор произведений тотчас же влиял на социальное положение писателей. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимомти от мнения критика. Нельзя… рассматривать неудачи и срывы художника слова, как преступления, а удачи - как реабилитацию". Резко прозвучала мысль о том, что писатели не ширпотреб, нет такой машины, которая позволяла бы изготовлять писателей сериями. Нельзя подходить к работе писателя с меркой строительных темпов. 21 Тем самым Эренбург нанес удар по расхожему мнению о том, что литератором в советской стране может стать любой человек, освоивший технику писательского труда. По его мнению, создание художественного произведения дело индивидуальное, … интимное, а литературные бригады останутся в истории советской литературы как живописная, но краткая деталь юношеских лет. По всей вероятности, писатель имел в виду бригаду литераторов, посетивших строившийся силами заключенных Беломоро-Балтийский канал и написавших позорную книгу очерков. Поездку эту довольно подробно описал А. Авдеенко в повести "Отлучение". 22 Некоторые участники съезда расценили замечание Эренбурга, как выпад против них. В частности, Горький встал на защиту коллективных публикаций, а Вс. Иванов открыто гордился поездкой на канал и ядовито заметил: "Это не значит, что я уговариваю несравненного Эренбурга вступить в одну из таких бригад. Кому нравится международный вагон, построеннный в 1893 году, а кому - самолет "Максим Горький". 23
(30) Эренбург взял под защиту творчество В. Маяковского и Б. Пастернака. Знакомство с их произведениями требует от читателя общекультурной и специальной литературной подготовки. "Романсы на гармошке куда легче даются, нежели Бетховен", - иронически заметил он.
(31) Явно в духе партийных установок доклада А. Жданова выступил на съезде Л. Соболев, чей роман "Капитальный ремонт" тогда оценивался довольно высоко (например, Горьким). Расхожей на долгие годы стала его фраза: "Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно - право плохо писать". 24 В этой фразе полуправда тесно сплелась с лицемерием и облеклась в красивую словесную оболочку. Вряд ли кто на съезде всерьез воспринял слова А. Соболева, хотя Горький похвалил изречение писателя, присовокупив к нему слова о том, что партия и правительство отнимают у писателей и право командовать друг другом, представляя право учить друг друга в плане обмена опытом.
(32) Примечательным было выступление А. Фадеева. Уже тогда входивший в литературную власть, он не ограничился оценкой литературной жизни страны, разразился дифирамбами в адрес партийного руководства, охарактеризовав дружбу людей из высшего партийного эшелона мужественной, принципиальной, железной, веселой, богатырской. Фадеев, пожалуй, первый на писательском форуме, призвал своих коллег изобразить фигуру такого мощного гения рабочего класса, как Сталин. 25 Однако эта тема не получила развития у других делегатов съезда, если не считать некоторые моменты в выступлении И. Бабеля о необходимости так работать над словами в литературных произведениях, как работает Сталин над своими речами; заявления Аросева о том, что Сталин является лучшим другом и руководителем нашей литературы и оголтелой речи Вс. Вишневского. Последний выразил радость по поводу выполнения завета Ленина о превращении советской литературы в часть общепролетарского дела. Выступление Вишневского отличалось патетичностью, свидетельствовало о его преданности идеалам Октябрьской революции и граждансклой войны. Он призвал писателей показать Ленина в 1917 г., как самого глубокого, самого интересного, самого блестящего образца полководца и военачальника во всей мировой истории. Дифирамбы Сталину также превзошли все границы: "Кто знает, что всем партизанским сибирским движением молча руководил Сталин? Он обеспечил разгром колчаковского белого фронта и дальневосточной интервенции. Культу сверхчеловека в Германии, культу "сына неба" в Японии мы противопоставим образ подлинного пролетарского вождя - простого спокойного вождя-человека". 26
(33) Противоречивое чувство вызвала речь Ю. Олеши. По его мнению, в художнике живут все пороки и все доблести. Каждый художник может писать только то, что он в состоянии писать. Писатель признался, что еще недавно социалистическая промышленность, новостройки не были его темой: "Я мог поехать на стройку, жить на заводе среди рабочих, описать их в очерке, даже в романе, но это не было моей темой… Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера. Я им не могу быть". 27 Такое заявление можно расценить, как смелое и откровенное. Но далее писатель скажет: "Теперь другое время. Я хочу создать тип молодого человека, наделив его лучшим из того, что было в моей молодостии". Можно предположить, что Олеша попал под настрой писательского съезда с его обещаниями, наставлениями, клятвами. Известно, что Олеша и после съезда не создал ни одного примечательного, солидного произведения в духе соцреализма, прославления советского строя и т.д.
(34) То же самое можно сказать и о Л. Сейфуллиной, писательнице смелой и честной, открыто выражавшей свои взгляды на советскую литературу. На съезде она могла заявить о том, что писателям незачем клясться в своей преданности советской власти. Будучи писателями советской страны, они не могут быть враждебными ей. С другой стороны, Сейфуллина язвительно заметила: "Советская власть лелеет писателей, как нигде, и они уже привыкли к этому. Писатель не прочь и корректуру своих произведений возложить на Политбюро. Со всякой мелочью мы привыкли обращаться к партии и правительству и ждать, чем нам помогут. Мы не ищем новые имена… У нас вообще нет критики. Писатели должны создать для себя ответственную критику, должны обороняться, если она безответственна. Писатели должны об этом говорить не в кулуарных тихих разговорах, а во весь голос добиваться этого. …В писательской среде сохраняются еще рапповские замашки. Нужны умные, толковые руководители писательского союза, а не чиновники". Уместным было и критическое замечание в адрес советской драматургии: "Киршон не виноват, что в Шекспирах ходит. Это не вина Киршона, а вина наша, что ходит он уже Шекспиром". 28 Так Сейфуллина выразила свое отношение к незаслуженно высоко оцененной пьесе этого драматурга "Чудесный сплав".
(35) К числу явных недостатков, а вернее пороков советской литературы, отмеченных на съезде писателей, было большое количество литературной макулатуры ("плохих книг", "серых книг", не доживших даже до 2-й пятилетки). Только с 1924 по 1933 гг. в СССР было издано 417 млн. экземпляров различных художественных произведений, но лишь 25% из них можно было переиздавать. 29
(36)
Пожалуй, особенно полемичной на первом Всесоюзном съезде советских писателей была проблема поэтического творчества. На наш взгляд, это объясняется двумя обстоятельствами. Доклад о состоянии поэзии в СССР сделал, как уже отмечалось выше, Н.И. Бухарин. К 1934 г. он уже ходил в уклонистах, лишился прежних политических постов и авторитета у власти. С другой стороны, его доклад о поэзии был полемичен, в значительной степени субъективен в оценках поэзии и поэтов. Все это вместе взятое и привело к негативной оценке выступления Бухарина со стороны ряда литераторов. Одним из самых рьяных критиков на съезде был поэт А. Сурков. Чего стоят, например, такие выпады в адрес Бухарина: " Не мне, конечно, указывать Николаю Ивановичу, старому социологу, политику, экономисту, на обязанность некоторого методологического единства в организации всего материала доклада. В докладе тов. Бухарина, к сожалению, очень много мест, отмеченных знаком далеко не диалектической противоречивости". 30 Он обвинил Бухарина в противоречивой оценке творчества В. Маяковского ("классик советской поэзии", время агиток Маяковского прошло"), советской поэзии вообще (то говорит о незаурядных возможностях ее, то утверждает, будто в ней царит глубокая некультурная провинция) и т.д. Сурков разделял точку зрения об оправданной тенденциозности поэзии в СССР, цитируя стихотворение Э. Багрицкого:
Век поджидает на мостовой,
Сосредоточен как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом стать,
Твое одиночество веку подстать.
Оглянешься, а кругом - враги;
Руку протянешь - и нет друзей;
Но если он скажет: "Солги" - солги!
Но если он скажет: "Убей" - убей!
Сурков сравнивал себя с курком на взводе, когда напряженная международная обстановка
заставляет вечерком доставать из дальнего ящика стола наган и заново его перечистить
и смазать. 31 Он
сожалел о том, что в широкий поэтический обиход входили такие понятия, как любовь,
радость, гордость, составлявшие содержание гуманизма. Для него составной частью
последнего являлось понятие "ненависть". Сурков осуждал, как он говорил, смехотворчество
и развлекательность, называя их "лимонадной" идеологией. Для него фильм "Веселые
ребята" являл собой издевательство над зрителем, над искусством, копирование
американских боевиков и призывал: "Давайте не будем размагничивать молодое красногвардейское
сердце нашей хорошей молодежи интимно-лирической водой. Не за горами то время,
когда стихи со страниц толстых журналов будут перемещаться на страницы фронтовых
газет и дивизионных полевых многотиражек". 32
Свою лепту в критику доклада Бухарина внесли С. Кирсанов, В.
Инбер, П. Орешин, Д. Бедный, А. Безыменский. Последний, в частности не соглашался
с мнением докладчика о том, что поэзия пролетарских писателей и поэтов элементарна
и устарела, в то время как поэзия обобщения "царства эмоций" многогранна и молода,
несмотря на отход некоторых ее представителей от современности.
(37)
Поэт А. Жарков обобщил критику выступления Бухарина в эпиграмме:
Наш съезд был радостен и светел,
И день был этот страшно мил -
Старик Бухарин нас заметил
И, в гроб сводя, благословил. 33
(38) В заключительном слове Бухарин отмел все претензии к его докладу. Он даже обвинил Безыменского, Суркова, Бедного и других в создании беспринципного блока, "фракции обиженных". Защищая положения своего доклада, Бухарин прикрылся, как щитом, заявлением о том, что его содержание было известно высшему партийному руководству еще до писательского съезда. Отметим также, что Горький отстоял Бухарина как докладчика о советской поэзии накануне съезда. 34
(39) Изложенный выше материал позволяет судить об идеологической заданности съезда писателей, социальном заказе будущему писательскому союзу. Открытого, честного разговора о проблемах творчества, его технологии, свободе выбора сюжетов литературных произведений и многого другого на съезде не получилось. Не случайной оказалась подпольная листовка, распространенная на съезде. По своему содержанию она была явно антисоветской и адресована зарубежным писателям, участникам писательского форума. То, что им покажут и расскажут, подчеркивали авторы листовки, будет отражением величайшей лжи, которую им выдают за правду. СССР уже 17 лет находится в состоянии, абсолютно исключающем какую-либо возможность свободного высказывания. Мы, русские писатели, напоминаем собой проституток публичного дома с той лишь разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой. В СССР существует круговая система доноса. Власть требует от писателей лжи, необходимой, как своеобразный "экспортный товар" для Запада. Примечательно, что авторы листовки признавали, что власть не верит писателям даже тогда, когда они публично превозносят "блестящие достижения" власти. В СССР свой советский фашизм, проводимый Сталиным. Его жертв больше всех жертв земного шара со времени окончания I мировой войны. 35 Подозрение сотрудников НКВД в составлении листовки пало и на участников съезда. Начались проверки почерков в анкетах делегатов.
(40) Не вызывает сомнения большое внимание Сталина к работе форума писателей. Об этом косвенно подтверждает письмо А. Жданова И. Сталину 28 августа 1934 г., в котором подчеркивалось очень хорошее настроение делегатов: "Съезд хвалят все вплоть до неисправимых скептиков и иронизеров, которых так немало в писательской среде. … Общее единодушное впечатление - съезд удался. … Все речи носили отпечаток серьезной подготовки. … Все старались, как умели, перекрыть друг друга идейностью выступлений, глубиной постановки творческих вопросов, внешней отделкой речи". 36 Вместе с тем, Жданов подчеркнул, что коммунисты выступили на съезде бледнее, серее, чем беспартийные, но не согласился с мнением Горького о том, что коммунисты не имеют никакого авторитета в писательской среде.
(41) Диаметрально противоположные оценки съезду давались в кулуарах, в узком кругу писателей. Агентура НКВД доносила начальству отзывы ряда писателей о съезде: М. Пришвин: "Все думаю, как бы поскорее уехать, - скука невыносимая". В Правдухин: "Все-таки хожу сюда и сам не знаю зачем. Ведь сознаю отчетливо, что мне в этой лакейской среде не место. Не умею и не хочу ни кланяться, ни исполнить роль угодливого официанта. Все, что творится сейчас в литературе, - беззастенчивая демагогия и издательский террор, издательства стали совершенно хамскими, что возможно только в нашей стране, где нет ни уважения к людям, ни элементарной порядочности. О съезде же всерьез стыдно и говорить: если что и предлагалось более или менее живое, - доклады Радека и Бухарина, - то и это отцвело, не успев расцвесть". А. Новиков-Прибой: "Сижу и слушаю с болью: по речам и докладам - все хорошо, а для того, кто, как я, знает теперешнюю литературную обстановку, - настоящий тупик". П. Романов в отличие от некоторых делегатов съезда критиковал доклад Горького: "Начальник департамента прочел, без всякого внутреннего подъема, приказ своего высшего начальства". И. Бабель: "Единодушие литературных сил СССР демонстрируется искусственно, из-под палки. Поэтому съезд проходит мертво". Украинский писатель Семенко: "Все идет настолько гладко, что меня одолевает просто маниакальное желание взять кусок говна или дохлой рыбы и бросить в президиум съезда. Может быть, хоть это внесло бы какое-то оживление. Разве можно назвать иначе, как не глумлением, всю эту лживую церемонию". По мнению Семенко, подлинные художники слова, борцы за национальную культуру гниют где-то в болотах Карелии и в застенках ГПУ. 37
(42) Приведенные выше отзывы исходили, как правило, от литераторов, не взошедших на литературный Олимп. Маститые, по советским меркам, писатели и поэты держали язык за зубами, не раскрывали свои души, памятуя, вероятно, поговорку о воробье и вылетевшем слове.
(43) Писательский съезд завершился принятием ряда итоговых документов, безусловно прошедших через сито Политбюро ЦК партии: Устава Союза советских писателей (ССП), резолюций по докладам, избранием правления, приветствий Сталину, ЦК ВКП(б) и др.
(44) Устав ССП объявил социалистический реализм основным методом советской художественной литературы. Он требовал от писателя и поэта правдивого, исторически-конкретного изображения действительности, в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны были сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма. Утверждалось, что соцреализм обеспечивает художественному творчеству исключительную возможность проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров. 38
(45) Целью и задачами СССП объявлялись: активное участие советских писателей своим художественным творчеством в социалистическом строительстве, защита интересов рабочего класса и укрепление Советского Союза; воспитание новых писателей из среды рабочих, колхозников и красноармейцев путем пропаганды художественного творчества, передачи творческого опыта; творческое соревнование писателей, взаимопомощь; всемерное развитие братских национальных литератур; интернациональное воспитание писателей; теоретическая разработка проблем соцреализма. Генеральная цель ССП - создание произведений высокого художественного значения, достойных великой эпохи социализма. ССП считался добровольной организацией. Членами ССП могли быть литераторы, стоящие на платформе советской власти, участвующие в социалистическом строительстве, занимающиеся литературным трудом.
(46) Устав предусматривал исключение из ССП в случае лишения гражданских избирательных прав, совершения антисоветских и антиобщественных поступков, несовпадения деятельности писателя с задачами социалистического строительства и задачами ССП; прекращения литературной деятельности на протяжении ряда лет; неуплаты членских взносов; по собственному желанию члена ССП. Вводился статус кандидата в члены ССП. Кандидаты в члены ССП имели совещательный голос, но не имели права избирать и быть избранными в руководящие органы ССП. 39
(47) Высшим органом ССП считался съезд, созываемый 1 раз в 3 года, а исполнительным органом - правление ССП, собирающееся на пленумы (не реже 3 раз в год). При правлении ССП создавался литературный фонд.
(48) В правление ССП в 1934 г. был избран 101 человек: А.М. Горький - председатель ССП, А. Щербаков - 1-й секретарь правления ССП. Таким образом, рассмотренный выше документ четко определил идейные и творческие постулаты советских писателей, объединенных в единый союз, охарактеризованный Л. Леоновым типично чиновничьим департаментом.
(49) Чиновники от литературы полагали, что поставленная задача выполнена. Однако в самом конце работы съезда произошла организационная заминка. Горький направил в ЦК ВКП(б) письмо, в котором отказывался работать в правлении ССП вместе с Ф. Панферовым, А. Фадеевым, В Ставским, В. Ермиловым и другими. По мнению Горького, они малоприятные люди, не желающие учиться писать, но привыкшие играть роль администраторов. Эти люди не создадут в правлении атмосферы дружной и единодушной работы, начнут междуусобную борьбу. Горький не чувствовал в них коммунистов и не верил в их искренность. 40 Для партийных верхов это было неожиданностью, и они решили провести у секретаря ЦК ВКП(б) В. Молотова совещание для поиска компромисса. Нам неизвестно, чем завершился демарш Горького. Косвенным ответом на него может служить мнение писателя С. Третьякова: "Несмотря на все уважение к Горькому, по основной линии ему не делается никаких уступок, хотя Горький ставит много условий. Ему делаются уступки в мелочах, и они никоим образом не могут влиять на изменение общей линии в литературе. Так например, по настоянию Горького устранен от активного руководства союзом Юдин, но это не может называться какой-то крупной победой Горького". 41 Отметим также, что и в среде литераторов отношение к Горькому порой выглядело, как снисходительно-критическое. А Новиков-Прибой мог заявить: "Съезд прошел под знаком "да здравствует Горький". Все, что съезд вообще дал: "да здравствует Горький". Более резок был И. Сельвинский, полагавший, что лидер советской литературы являлся рассадником групповщины, худшей, чем при РАППе, потому что вкусовщина играет еще большую роль. Развивалось подлейшее местничество в окружении Горького. 42
(50) Высшему партийному руководству вряд ли доставляло удовольствие знакомство с донесениями осведомителей НКВД, которые по-своему подводили итог писательского съезда. Они подчеркивали, что литераторы занялись устройством своих дел: покупкой машин, строительством дач, отпусками, творческими командировками и т.п. Они вяло реагировали на складывавшуюся после съезда общественно-литературную обстановку, очень мало говорили о нем. Словно все сговорились хранить молчание. Однако такую позицию заняли не все. По мнению Л. Сейфуллиной после съезда обстановка в писательской среде складывалась тяжелая, кругом хищники, предатели. В ССП чиновники, бонзы, презиравшие писателей. Съезд не дал конкретных результатов. 43
(51) На наш взгляд, такая оценка близка к истине. Нет сомнения в том, что руководство ВКП(б) провело большую подготовительную работу, связанную со съездом советских писателей. Был обеспечен и соответствующий идеологический настрой съезда, на обсуждение поставлены важные проблемы литературного творчества. Однако глубокий профессиональный анализ состояния и перспектив развития отечественной литературы не был сделан. Отдельные попытки такого анализа, например, в докладе Н. Бухарина вылились во взаимную неприязнь поэтов и докладчика. С другой стороны, литераторы прекрасно уяснили, что от них власть требует прославления советского строя и его политики, подчинения литературы задачам своего времени, что они должны опираться в своем творчестве на метод социалистического реализма, оправдывать тенденциозность в литературе и т.д. Смиряясь с тогдашней действительностью, многие делегаты съезда с трибуны могли произносить высокопарные речи, а в кулуарах нещадно критиковать власть и ее политику, что становилось известно последней. Пожалуй, единственно важным итогом писательского съезда было создание Союза советских писателей, пришедшего на смену многочисленным литературным объединениям 20-х - начала 30-х гг., но который на долгие годы стал своеобразной писательской казармой.